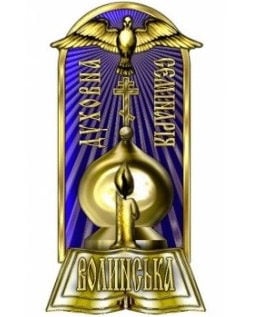Одной из внешних сторон Православного богослужения есть обряд. Он представляет собой “символическую форму глубочайшего духовного содержания религии; это внешнее, телесное выражение религиозного чувства и благочестивой настроенности человека” [1]. Он также является видимым знаком благодатной помощи Божьей, ниспосылаемой по нашей вере в богослужении и таинствах. В процессе освящения человека “церковно-богослужебные обряды можно сравнить с проволоками, через которые распространяется от заряженной батареи электрический ток” [2].
Обряд, с одной стороны, возникает из психологических потребностей человека, а с другой – на этой же самой почве имеет большое влияние в процессе религиозно-нравственного воспитания.
О необходимости обряда в богослужении говорит епископ Феофан. “Что есть священнослужение? – спрашивает он и отвечает: – ряд молитв, читаемых, поемых и мысленно к Богу возносимых. В этом сущность священослужения. Но так как мы заключены в пространство и время, то всякое служение требует своего времени, своего места и порядка, своей обстановки, обряда – того, что неизбежно обставляет ряд молитв, хотя не составляет существа служения. Священослужитель в известном месте, в известное время, в определенном порядке, как положено в церкви, совершает свое священнослужение, причем и он, и причт, и христиане держат себя в известном положении. Все это есть обряд. Но суть дела не в этом внешнем, а в ряде молитвословий, совершаемых при этом. Это же все происходит потому, что мы пространственны и временны и что ни станем делать, делаем в свое время. И кто бы в этом полагал существо веры, делал бы большую ошибку” [3]. Потому что обряды, соприкасаясь с догматами веры, к существу веры не относятся, имеют не догматическое, а этико-психологическое значение. Они являются как бы внешним покровом, оболочкой, под которой символически скрываются внутренние духовные истины.
Обрядовая форма нашего богослужения естественно и необходимо, вытекает из самой организации человека – физиологической с одной стороны и психологической с другой, в которой та и другая находятся в тесной связи и взаимодействии. Вся жизнь человека определяется этим взаимодействием и происходит так, что ни душа, ни тело не совершают своих действий друг без друга. “Если работает душа, то ее деятельность выражается через тело. Если работает тело, то с изволения и под управлением души. Такое взаимодействие души и тела основывается на психо-физическом законе, по требованию которого приятные и болезненны наши состояния стремятся произвести деятельные проявления во вне, каждый по мере силы своей интенсивности”[4]. Причем те или другие психические состояния (аффекты) у всех выражаются определенным внешним образом. Так, например, когда человек радуется, принимает веселый вид, когда обращается с просьбой к лицу, от которого зависит его судьба, то принимает смиренно-просительное выражение; когда в чем-нибудь раскаивается или просит прощения, то волнующее его чувство тоже отражается на лице. Эти и подобные факты убедительно говорят о прямой и неизбежной связи между внутренним состоянием человека и внешним проявлением этих состояний в соответствующих действиях и выражениях телесных. Этого никто не может опровергнуть, потому что для каждого оно очевидно, и каждый испытал это на себе. Если же всякое душевное состояние выражается внешним способом, то в силу того же свойства, оно должно всегда воплощаться во внешних формах. Поэтому человек, религиозно настроенный, в частности молящийся, испытывает внутреннюю неустранимую потребность осенять себя крестным знамением, падать на колени, класть земные поклоны, поднимать глаза к небу и т.п.
На этой же самой психологической почве и из тех же самых побуждений могут быть объяснены и другие более сложные проявления богослужебного культа: построение величественных храмов, колокольный звон, употребление икон, благовонное курение, крестные ходы, установление поста и другие. Все это вытекает из того психологического закона, по которому человек облекают трауром все печальное, а все радостное наряжает в светлую блистающую одежду.
Богослужебный обряд со всеми его разнообразными формами имеет аналогию и в других областях человеческой деятельности. “Мы устраиваем памятники на могилах людей, – говорит профессор А.Ф.Гусев, – которых особенно любим и уважаем; воздвигаем монументы героям и соотечественникам; дорожим всякою вещею или портретом умершего близкого родственника или друга. Когда устраиваем овации какому-нибудь общественному деятелю или писателю; когда украшаем дома флагами в дни радостных событий; когда носим траур по умершим, то во всех этих случаях стоим на той же самой почве, на которой возник богослужебный культ” [5].
Необходимо отметить и то, что некоторые люди или целые общины, которые особенно упорно отрицают внешнее обрядовые формы Православного богослужения, не только не отрицают законности аналогичных явлений в других областях человеческой деятельности, но относятся к ним явно с пониманием. Траур, как выражение гражданской скорби, всеми признается вполне естественно и даже необходимо. Между тем, соблюдение установленных Церковью дней траура (Великий пост) они считают лишними. Для истинного христианина психологически не возможным есть употреблять изысканные блюда, веселиться и играть в Великую Пятницу по тем же самым причинам, по которым любящий сын не будет скакать и плясать перед гробом отца или в годовщину его смерти.
Да и те христианские деноминации (секты), которые выступают против богослужебной внешности, как показывает история, не могут обойтись без внешних знаков и обрядов для выражения своего религиозного настроения [6]. При этом их “обряд” в силу своей бедности не может сам благотворно воздействовать на молящихся, вызывая в них молитвенное настроение. Молящимся здесь самим все время приходится настраивать себя, а совершителю его все время приходится быть в напряжении, прибегая к искусственной аффектации, чтобы поддерживать настроение молящихся. В то время, как наше богослужение требует от священнослужителя только благоговейного его совершения [7].
Необходимость обряда вытекает далее из того, что совершение богослужебных действий может возбуждать в нас – и действительно возбуждает – молитвенный дух и молитвенное настроение. Психология знает не только о влиянии души на тело, но и об обратном влиянии тела на душу. Совершение богослужебных обрядовых действий вызывает в душе соответствующие им эмоции и переживания. Молящийся, приходя в храм, может начать произносить слова молитвы и совершать молитвенные действия, не имея молитвенного настроения, оно может возникнуть как следствие его молитвенных подвигов и упражнений и через созерцание богослужебных обрядовых действий.
Блаженный Николай Кавасила по этому поводу говорит: «Благочестие, вера, любовь к Богу, полная горячности, – это все такие чувства, которые непременно мы должны иметь, приступая к святым (Тайнам), без которых смотреть на них крайне нечестиво. И чтобы достичь такого состояния, для этого недостаточно того, чтобы в известное время изучить все, касающееся Христа, и знать это; нет, для этого необходимо, чтобы око нашего ума было постоянно обращено к этим предметам, чтобы мы созерцали их, употребив все усилия к тому, чтобы удалить все другие помыслы и сделать свою душу, способной к освящению. Ибо если мы будем иметь только понятие о благочестии так, что, когда нас спросят о нем, мы могли бы отвечать здраво, а когда нужно приступить к таинствам, не будем созерцать всего, как следует, а напротив, внимание наше будет обращено на другие предметы, то от этого знания нам не будет никакой пользы, потому что при этом в нас не может пробудиться ни одно из тех чувств, о которых было сказано, – мы будем иметь настроение, соответствующее тем мыслям, которые будут занимать нас в это время, в нас будут преобладать такие чувства, какие они в состоянии пробудить. Поэтому и присвоен священнодействию такой вид, при котором одно (понятие о благочестии) не только высказывается словами, но и представляется подробно взорам; другое (благочестивое чувство) выражается во всем священнодействии для того, чтобы посредством этого удобнее действовать на наши души, чтобы в нас было возбужденно чувство, а не простое только созерцание, так как воображение при содействии глаз гораздо яснее представляет нам образы предметов; посредством другого не дать места забвению, не допустить мысли переключаться на другие предметы, пока дело не дойдет до самой Трапезы, чтобы таким образом, будучи исполнены таких мыслей и имея созерцание в полной силе, мы приобщились святых Тайн… Вот смысл всего священнодействия говоря вообще» [8].
Обряд также выполняет функцию психологической поддержки верующего человека.
Непостоянность этого мира пугает человека разного рода опасностями и неблагополучиями, связанными как с явлениями в природе, так и функционированием в обществе. В связи с этим верующий человек стремится найти чувство спокойствия и защищенности, гарантии благополучия и, как правило, находит успокоение в церковном богослужении. Посещая церковь, православный христианин не только получает от Бога благодатную помощь и заступничество, но и психологическое успокоение, т. е. умиротворенное состояние. В результате в человеке укрепляется вера в Бога, появляется надежда на будущие, чувство стабильности и благоденствия в общем контексте несчастьев, страданий и опасностей. Об этом говорит нам святитель Дмитрий Ростовский: «Аще кто узрит в себе совесть и ум смущен да идёт в священный храм Господен, его же избра Бог в жилище Себе. В церкви бо радующихся соблюдаема есть радость, скорбящих утешение, опечаленных веселие, трудящихся успокоение, болезней отрада, надежда в Господе» [9].
Обряд психологически способствует запоминанию религиозных истин, которые содержатся в богослужениях. Это видно из вышеприведенной цитаты блаженного Николая Кавасилы, где он говорит, что понятие о благочестии «не только высказывается словами, но и представляется подробно взорам» [10].
Кроме этого, богослужебный обряд, основой которого есть символ, имеет и педагогические воздействие. Он символически «изображает тайны мира невидимого и вспоминает события церкви Божьей на земле» [11]. Профессор В.Ключевский говорит, что «для усвоения истины сознанием достаточно известного усилия мысли и памяти, чтобы понять и запомнить её. Но этого очень мало, чтобы сделать истину руководительницей воли, направительницей жизни целых обществ. Для этого нужно облечь её в формы, в обряды, в целое устройство, которое непрерывным потоком надлежащих впечатлений приводило бы и размягчало нашу грубую волю и таким образом посредством непрерывного упражнения и навыка, превращало бы требования истины в привычную нравственную потребность, в непроизвольное влечение воли… Обряд – это своего рода фонограф, в котором застыл нравственный момент, вызывающий в людях добрые дела и чувства» [12].
Именно в таком невербальном (безсловесном) способе религиозные истины, воплотившись в обрядовые действия, дают возможность задуматься верующему над смыслом религиозного учения, самоуглубиться в историю своего религиозно миропонимания, в особенности своего мировоззрения. Через участие в богослужении человек религиозно просвещается, и это просвещение каждый раз по новому открывает ему церковные истины. Поэтому «каждый приходящий в храм, – пишет прот. В.Нечаев (впоследствии еп. Виссарион), – пусть внимательно вслушивается во всё, что здесь поётся и читается, – он и без школьной подготовки узнает всё, что нужно ему знать для спасения души. Храм с его богослужением есть такая школа. И тем легче можно успеть в усвоении учения, предлагаемого богослужением, что это для каждого из нас до конца жизни непрерывно повторяется… В высшей степени важно и то, что богослужение служит практическим способом обучения истины веры и нравственности. В нём эти истины не отчётливо предлагаются, а входят большею частию в состав молитв. Таким образом, если молящийся славословит Отца и Сына и Святого Духа, он через это обучается вере в догмат искупления. Догмат почитания святых он усвояет через то, что действительно молится святым и прославляет их. Значение догмата веры о поминовении усопших приобретается через действительное поминовение их и т.д.» [13].
Священно-символические действия так же, как и обряды, возникают из психологических потребностей человека и так же имеют нравственное воздействие на молящегося, поэтому они называются символическими, что за видимым, внешним способом их совершения лежит и скрывается какая-нибудь священная мысль.
К символическим действиям относятся: крестное знамение, поклон, коленопоклонение, благословение священника и т.д., то есть, те внешние действия, которые сопровождают нашу молитву.
Сам Господь, наш Иисус Христос, при молитве к Отцу Небесному употреблял благоговейные знаки: поднимал очи к небу (Мф М 18;Мк 6,41; Лк 9,16; Ин 11, 41;), преклонял колени (Лк 22,41), падал ниц (Мф 26,39;Лк 9,16;Ин 11,41;), вздыхал (Мк 7,34), проливал слезы (Евр 5,7).
Пользовались внешним движениям и святые апостолы (Деян 9,40; 20,36; 1 Кор 14,25). О внешней стороне молитвы упоминают мужи апостольские и христианские апологеты [14] и святые отцы [15].
Каждое из этих действий имеет свой смысл и значение, и поэтому оно зависит от характера молитвы. Так, хвалебной молитве более приличествует стояние, ибо здесь уста изливают перед Богом, главным образом, полноту сердечной радости; благодарственной – поклон, как это бывает в жизни обыденной. Просительно – покаянной молитве свойственны формы, выражающие сокрушение молящегося и его взывание к Божьей помощи. Такими знаками могут быть: поднятие рук к Богу, наклонение головы, преклонение колен, земной поклон и прочие.
Глубокий психологический смысл, характеризующий возникновение символических действий заключается в словах Священного писания: «От избытка сердца глаголют уста» (Лк 6,45). Когда душа полна бывает благоговейных чувств к Богу, она невольно изливает их в торжественных гимнах, возвышениях рук, преклонении колен и т.д. Таков закон душевной жизни человека.
Ввиду такой тесной и неразрывной связи внутренней и внешней молитвы, святитель Филарет Московский считает даже бесполезным ставить вопрос о том, не довольно ли одной внутренней молитвы без наружной [16].
Священно-символические действия имеют и педагогическое воздействие. Так, например, крестное знамение, являясь главным молитвенным знаком, наводит на размышление о величайших к нам милостях и благодеяниях Божьих, а также напоминает о важнейших догматах веры и главной заповеди – любить Бога всем помышлением [17].
Такой обряд как стояние за богослужения учит присутствующих подражать ангелам небесным, которые служат Богу, “предстоя со страхом окрест престола Его” (Апок. 7,11) “Это положение напоминает о призвании христианина”, – говорит прот. Т.Дебольский, чья жизнь по учению апостола Павла должна быть непрестанным служением Богу (1 Кор. 16,13; Ефес 6,14).
Поклон или наклонение главы учит человека благоговению перед Богом. «Кроме того, поклоны как физическое упражнение побуждают энергию душевную и телесную, – говорит св. Иоан Кронштатский, – смиряют душу, возбуждают ее к размышлению и чувству повинности нашей перед Богом. Без поклонов нас может одолеть окончательная косность, дремота, рассеянность, леность, к которым так склонна наша душа и тело» [18].
Окропление святой водой напоминает христианину о духовном очищении и духовной бодрости [19] и т.д.
Даже такие действия как вставание ранним утром к богослужению по зову церковного колокола, простаивание целыми часами за продолжительными церковными службами в безмолвии и сосредоточенности, «являются упражнениями воли и всего тела в труде, бдении, терпении и постоянстве» [20]. Усвоение этих уроков очень важно, так как они «открывают вход в то высшее училище духовной жизни, в ту внутреннюю жизнь, где не видно конца борьбы с нашими страстями, где кровавым трудом достаётся победа» [21].
Символические действия являются как бы формой социального поведения верующих, что раскрывает их отношение как к Божественному, так и к профанному (мирскому). Их функция в богослужении заключается в том, что они регламентируют взаимоотношения людей с Богом, служат как бы мостом, по которому осуществляется переход от мирского к Божественному и наоборот. Исполняя эти функции, они вызывают и одновременно учат человека благоговению, страху и любви к Богу.
Таким образом, до тех пор, пока человек состоит из двух природ – тела и души обрядовая, сторона религии ему необходима. И не даром в Апологии Христианства Геттингера сказано: “кто восстает против внешних проявлений молитв, против чувственных выражений и знаков, и не употребляет их, тот стесняет свою душу и, вместе с тем, лишает освящения своего тела. Кто специально их избегает и принуждает к этому других, тот не имеет в себе тёплого сердца, и религиозность такого человека слишком поверхностна”[22].
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
1. Федеров В. доц. прот. Обряд и богослужение в Православной Церкви //Вестник ЛДА, 1990. №1. С. 137.
- 2. Левашев П. свящ. Зачем так много у нас обрядов. С-Петербург, 1906. С.17.
- 3. Феофан еп., Письма к одному лицу в С-Петербурге по поводу появления там нового учителя веры. М., 1907. С. 126.
- 4. Соколов А. Культ как необходимая принадлежность религии. Казань, 1900. С. 96.
- 5. Гусев А. Ф. проф., Необходимость внешнего богослужения. Казань, 1902. С. 5-6.
- 6. см. Кремлевский П. Нужна ли Церковь христианину. С-Петербург., 1902. С. 151-155.
- 7. Саплин З. Православно-христианское богослужение в понимании русской интеллигенции. /рукопись/ К., 1913. С. 150.
- 8. Кавасила Н. архиеп., Изъяснение божественной литургии.//ЖМП. 1971. 31. С. 61-62.
- 9. Цит. по: Прозоровский Г. О Православном богослужении и его значении в христианской жизни./рукопись/. К., 1853. С. 104.
- 10. Кавасила Н. архиеп., Указ. соч. С. 62.
- 11. Федоров В. доц. прот. Указ. соч. С. 137.
- 12. Ключевский В. проф. , Курс Русской истории. Ч.ІІІ. М., 1904. С. 369.
- 13. Федоров В. доц. прот. Указ. соч. С. 137.
- 14. Ориген. О молитве. Ярославль, 1884. С. 163-167.
- 15. Иоанн Златоуст, святитель. Творения. Т. З. Беседа о том, что не должно разглашать грехов братий. СПб., 1897. С. 373.
- 16. Филарет, митр. Московский, Пространный христианский катахизис. М., 1889. С. 103.
- 17. О крестном знамении, силе, значении и о чудесах его. Одесса, 1909. С.9. Ср.: Нахимов Н. Вера, молитва и жизнь православного христианина. СПб., 1910. С.33.
- 18. Сергиев И. свящ. Моя жизнь во Христе. С-Петербург 1903. С.227.
- 19. Федоров В. доц. прот. Указ соч. С.154.
20.Ключарев Н. прот., Несколько проповедей. М., 1873. С.6.
- 21. Там же
- 22. Геттингер Фр. Апология Христианства. Ч.І. С-Петербург, 1872. С.296.
Прот. Александр Богданов ( викладач ВДС,кандидат богослов’я)
Переглядів: 150